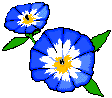Изсмертведь

Музыка: Релакс Музыка Флейта
ИЗ «ОТКРОВЕНИЯ» КЛИМОВА
Если человек теряет интерес к жизни и он не возвращается к нему, человек умирает. Я давно потерял интерес к жизни и ясно осознаю, что он уже не возвратится ко мне. Следовательно, я должен умереть.
Может ли нормальный человек потерять интерес к жизни? Раз я потерял его, значит, может, потому что трудно представить себе человека нормальнее меня. Больше того, я убежден, что каждый человек на определенном этапе своей жизни не может не потерять интереса к ней, иначе он просто идиот, холуй или подлец. Другое дело, что это не обязательно кончается смертью.
Так почему же я не хочу жить?
Наблюдая в детстве за взрослыми, я был уверен, что они играют передо мной, потому что я маленький, а когда я не вижу их, живут настоящей серьезной взрослой жизнью. На это я и рассчитывал, когда вслед за ними начинал играть в их ненастоящую жизнь. Я думал, что, чем быстрее я научусь играть в нее, тем быстрее сделаюсь взрослым и узнаю, какова же жизнь настоящая.
Я сразу понял, что стану взрослым только тогда, когда научусь так же, как и они, лгать и обманывать. Это было трудно, потому что ложь взрослых отличалась от моей детской принципиально. Если я, обманывая, скрывал правду и именно это было целью моей лжи, то они одной лжи противопоставляли другую, которую называли правдой, так что сама правда как бы переставала существовать вообще.
Например, мои родители, много лет ругаясь друг с другом, всегда выбирали правду из двух утверждений: либо он любит ее, как это требуется, а она любит его недостаточно и к тому же обманывает, либо наоборот, хотя правда состояла в том, что они оба не любили и оба обманывали.
В конце концов я догадался, что вся жизнь, которую демонстрировали передо мной взрослые, состояла в том, чтобы обходить разные неприятные вопросы с помощью лжи, причем не какой-то подлой и очевидной, а приятной, и обязательно во спасение. Взрослые говорили не то, что они чувствовали, что думали и что вместе с ними чувствовал я, а то, что было нужно говорить, чтобы не допускать неприятностей и трагедий.
Я стал учиться у них этому, искрение веря, что существует и другая жизнь, ради которой все это и делается.
Образцом того, чему я в конце концов научился, были так называемые «мысли», которые я стал записывать в тетрадь, а мои родители, как бы скрывая это от меня (хотя я прекрасно знал об этом), стали читать гостям и знакомым, теша свое родительское тщеславие.
«Первый шаг младенца — есть первый шаг его к смерти». «Счастлив тот, кто перед смертью ее желает». «Гений не ждет, когда его посетит вдохновение, он сам подготавливает условия, при которых оно появляется».
Все «мысли», которые я записывал, объединяло одно характерное свойство — мое абсолютное равнодушие к предметам этих мыслей просто в силу моего возраста. Я играл по правилам той игры, которую наблюдал вокруг себя, — говорил не то, что чувствовал, а то, что выгодно.
Выгода заключалась в том, что «мысли» мои были похожи на высказывания взрослых знаменитых людей, и это тешило самолюбие моих родителей и мое, потому что из этого следовало, что я резко отличаюсь от своих сверстников и представляю собой исключительную личность.
По вот в свое время, когда я уже ощущал себя вполне готовым к настоящей жизни, то есть научился лгать, меня настигла первая, нe напоказ, моя собственная мысль о смерти, которая потрясла меня так сильно, что я не сумел на этот раз воспользоваться умением лгать себе и обойти ее, как будто ее и не было. Я отдался ей весь, не защищаясь и чувствуя, что близок к помешательству.
Несколько недель подряд она ежеминутно ужасала меня, но я так и не смог убедить себя, что ее нет, или по крайней мере, что она совсем не страшна. Я сразу признался себе, что ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НАВСЕГДА не поддается моему пониманию и еще более не поддается ему возможность ИСЧЕЗНУТЬ НАВСЕГДА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ.
Вот тогда-то, кроме ясного осознания своей необходимой, обязательной смерти, я понял и то, что у людей НЕТ ДРУГОЙ, НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ, той самой, на которую я надеялся. Я понял, что люди не играют в ложь передо мной, а живут во лжи, и не потому, что они плохие, коварные, хитрые, а потому, что они так устроены. Я понял, что даже самые правдивые из них, даже пострадавшие, даже погибшие за так называемую правду тоже лгали, только другой ложью, которая по контрасту с более очевидной казалась им правдой. Тогда же я понял, что такая массовая обязательная ложь не есть свойство строя, государства, народа, а есть свойство человека вообще.
Вполне возможно, что я мог бы именно тогда потерять интерес к жизни, как теряют его тысячи и тысячи подростков, ошеломленные открывшимся обманом, но этого не случилось прежде всего потому, что мысли о смерти, поначалу отняв у меня надежду на существование настоящей жизни, впоследствии снова вернули ее, потому что все эти мучительные дни я такой жизнью и жил.
Ведь, несмотря на то, что смерть заслоняла собою все, временами у меня возникало неизведанное раньше чувство спокойного и гордого удовлетворения собой. Это удовлетворение было мимолетно, но прекрасно, хотя и не могло перевесить смерть.
Именно с тех пор мое отношение к жизни, к людям, к миру, к себе определялось весами, на одной чаше которых была смерть, па другой все остальное. Я неустанно и мучительно искал в жизни что-то такое, что перевесило бы смерть или хотя бы уравновесило весы. Тогда, как мне казалось, я сразу бы постиг смысл человеческой жизни, своей, в частности.
Только глупые или наивные люди считают, что постоянно искать смысл жизни — предназначение человека. Человек задает себе этот страшный и странный вопрос совсем не от того, что это его предназначение, а от того только, что чувствует, что живет не так. Чувствует и имеет мужество признаться себе в этом. Все дело в том, что на человека можно обрушить тысячи теорий, вер, философских систем, его можно убедить, запугать, его можно заставить поверить, он сам может убедить или заставить поверить себя, что живет правильно, достойно, честно, так, как нужно жить, но, ПОКА У НЕГО НЕ ВОЗНИКНЕТ СОБСТВЕННОЕ ЯСНОЕ ЧУВСТВО, ЧТО ЭТО ТАК, А НЕ ИНАЧЕ, он будет мучительно искать смысл своей жизни, то есть пытаться понять, почему же он живет неправильно.
Итак, я стал пытаться уравновесить весы и пошел по известному пути. Каждый человек живет аналогиями, перед глазами у него всегда существуют примеры, которым он следует. Ведь путей в жизни немного, и они одинаковы во все времена у всех народов. Больше того, они предопределены природой, и человеку только кажется, что он выбирает свой путь...
На чашу весов, которая должна была уравновесить смерть, я накладывал учебу, знания, искусство, философию, семью, любовь, долг, веру, работу. И по мере того, как я накладывал, все эти безусловные для огромного большинства людей понятия открывались для меня в новом свете. Они оказывались ложными, что неудивительно, если помнить, что человек живет во лжи. Их значительность, важность, абсолютность были выдуманными, это становилось ясно в сравнении со смертью. Ложными и фальшивыми эти понятия были не сами по себе, как я обнаружил, но идеи, в них заложенные, были извращены до своей противоположности.
Философы философствовали не для того, чтобы приблизиться к пониманию истины, сути вещей, не для того, чтобы жить соответственно своим представлениям, а для того, чтобы угождать сильным, побеждать в споре мнений, получать за все это деньги и любым способом держаться на виду.
Искусством люди занимались не для свободного самовыражения, а для того же, для чего философствовали философы.
Семью создавали, не заботясь о детских душах, но всю заботу обрушивая на их тела и желудки.
Одним словом, все, что по моим понятиям было важно и нужно, люди старались не замечать, забыть или прямо оболгать и уничтожить, а все ничтожное, мелкое, вредное выдавалось за главное.
Даже любовь во всех ее видах была сплошная и изощренная ложь.
Но и то, что оставалось хорошего и чистого, все равно не уравновешивало смерть на весах. И дело совсем не в том, что я боялся смерти или мыслей о смерти. Дело именно в том, что все, что я делал и мог сделать в жизни, НЕ ВЫДЕРЖИВАЛО СРАВНЕНИЯ СО СМЕРТЬЮ. Со смертью в общем смысле, с самим фактом существования смерти. Чтобы я ни сравнивал с ней, смерть перевешивала, она была значительнее.
А отчего, собственно, смерть не может быть самым значительным из того, что знает человек? Да оттого, что жизнь тогда представлялась мне совершенно бессмысленной, ненужной, необязательной. Прожить много десятков лет, заранее зная, что самое важное в твоей долгой жизни все равно смерть?! Для чего же тогда жить? Пытался уравновесить смерть я и другим известным способом: сделаться кумиром, идолом, пророком, гением, богом. Больше всего меня занимала роль нового Христа, именно в том смысле, чтобы пострадать, быть распятым, принять на себя грехи мира...
Но и это в конце концов прошло, потому что и это оказалось ложью, но уже самого высшего порядка. По крайней мере формула «нести свой крест» стала с тех пор для меня воплощением самой тонкой, самой изощренной лжи человеческой, направленной на то, чтобы даже из своей слабости, из своего ничтожества извлечь выгоду.
Когда я возомнил себя пророком, мне пришлось так много думать и говорить, что в конце концов я естественным путем пришел к выводу о безнравственности мышления, если оно направлено на удовлетворение тщеславия. Я понял, что пророки всегда были тщеславны, а следовательно, жалки. Собственно говоря, вся человеческая деятельность, так или иначе связанная со словесным выражением чувств и идей, есть опошление этих чувств и идей, которые в чистом виде большинство людей не способны воспринимать из-за своей склонности ко лжи. Характерный пример тому — роман Сервантеса о Дон Кихоте, в котором заложенная в нем идея, выстраданная самим Сервантесом своей жизнью, опошлена до уровня художественной литературы, искусства и только поэтому воспринята людьми.
К тому же мышление уничтожает у человека тайну, оно создает у него иллюзию того, что он постиг, понял, открыл, знает, что он всесилен и теперь для него нет тайн на земле. Именно поэтому человек так глуп и ничтожен, а не почему-либо другому. Природа смеется над ним, а он все воспринимает всерьез. Человек в этом смысле подобен путнику, который споткнулся о камень, упал, разбил себе лицо, но вместо того, чтобы впредь внимательнее смотреть себе под ноги, кричит всем вокруг:
— Я открыл! Я понял! Я теперь знаю! Я гений!
Глупец, он только и знает, что на этом месте лежит камень, а считает, что постиг. Он начинает снисходительно, свысока относиться к природе, не понимая, что она по какой-то причине, из жалости, от скуки или по собственной глупости подсунула ему под ноги камень. А ведь таких камней на дороге столько, что мозгу человека не дано запомнить их все, а лицо его не выдержит и нескольких подобных открытий.
Но это куда ни шло, если бы он разбился в конце концов насмерть. Одним дураком стало бы на свете, как говорится, меньше. Но он же толкает на дорогу и других людей, верящих ему, невинных и не таких глупых, как он. И они гибнут на этой дороге, почитая его гением и своим руководителем...
Никто не понимает, что достижимое — есть лишь ничтожная часть возможного. Оно подобно ведру из океана. На этом человек и держится, потому что бесконечность познаваемого подразумевает бесконечность познания. На его счастье, ему не дано постичь целое — только части. Потому что целое — бесконечность. Именно поэтому понимание как категория конечная бессмысленно по отношению к природе.
Например, рождение, как я все же верно заметил в детстве, есть одновременно и начало смерти. Можно это постичь?! Поэтому человеку и нужно быть поскромнее... Но нет, не может!
Никак не может просто признаться в собственном ничтожестве, а если кто признается, да еще заявит, что не он один такой, то кончается это известно как. Как кончилось с Сократом, например.
Самое характерное, что на его жизни и смерти много веков как черви кормятся тысячи и тысячи тех самых людей, которые приговорили его к смерти.
Впрочем, было бы поразительно как раз, если было бы иначе.
Но из смерти Сократа следует вывод, который я и сделал в свое время: что его жизнь и смерть так же бессмысленны, как жизни и смерти тех, которые вытолкнули его из жизни.
Именно размышления о Сократе и подобных ему людях (особенно неизвестных, которые, по моему мнению, и есть самые достойные) заставили меня разобраться наконец, что же есть такое ВЕРА. Я стал думать о том, почему я не могу проникнуться верой во что-нибудь и таким образом уравновесить смерть на весах.
Я думаю, что именно то обстоятельство, что я по натуре человек доброжелательный и доверчивый, готовый следовать любой идее, если она нравственна, и привело меня к разочарованию в человечестве и в том, во что оно верит.
После многочисленных и истовых попыток проникнуться верой во что-нибудь я пришел к выводу, что если идея веры и разумна, то она извращена до неузнаваемости, а скорее всего вера придумана людьми для того, чтобы удобнее было лгать.
Любая вера характерна тем, что она претендует заменить нравственность, подменить ее и подразумевает не такое отсутствие сомнений, которое отличает человека нравственного и ведет ТОЛЬКО К ЕГО СТРАДАНИЯМ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛИ, а такое, которое отличает фанатика и ведет к страданиям и гибели других людей. Объясняю я это тем, что вера навязывается человеку человеком, а нравственность дается природой.
Что может быть страшнее для молодой души, чем разочарование в вере? А ведь вера всегда ведет к разочарованию, если только человек не превращается в фанатика, раба или жертву.
ЛЮБАЯ ВЕРА СТРАШНА ИМЕННО ТЕМ, ЧТО ПРЕТЕНДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКУ НРАВСТВЕННОЕ ЧУВСТВО. Почему люди так упорно пытаются заменить его верой? Да потому что так легче жить.
Во что верят люди? Чем они пытаются заменить нравственность? Люди верят в идеи. Идеи коммунизма и капитализма, идеи христианства и мусульманства, идеи чучхе и воскрешения из мертвых... И во множество различных других идей. Кроме того, что эти идеи ограничивают человека в его внутренней духовной жизни своими искусственными рамками, они, как правило, принимаются за руководство государствами, правительствами, общностями людей, и тогда каждый член общности, хочет он этого или не хочет, должен их исповедовать, иначе он автоматически становится врагом.
Государство, или общность людей, начинает заботиться о том, чтобы в идеи верили как можно больше людей, и результат этой заботы всегда одинаков — насилие физическое и духовное. Когда насилие переходит определенные границы, наступает период безверия. Безверие тоже есть вера, потому что она замещает собой нравственность, что есть характерный признак любой веры.
Еще люди верят в отдельных людей. Они выбирают кого-нибудь, кто больше других мельтешит у них перед глазами, чаще всего, разумеется, самого недостойного и делают из него кумира, вождя, идола, предмет поклонения. Они обожествляют его, ползают в прахе у его ног, будучи, как правило, абсолютно к нему безразличны. Как правило, все вожди приходят к власти по трупам, то есть они убийцы. Так вот, чем больше трупов, тем больше поклонения.
Есть и другие веры, как раз из области той наивной, искренней лжи во спасение, которой опутан человек. Это вера в добро, справедливость, правду и так далее. Люди грешат, рабствуют, лгут, унижаются и унижают, по при этом продолжают верить в то, что правда и справедливость все-таки восторжествуют. Вот уж поистине предел человеческого ханжества! Тем более что в итоге, как и во всех предыдущих случаях, миллионы людей отправляются на тот свет, чтобы другие миллионы могли жить соответственно идеям добра, правды и справедливости.
При этом искренне верят, пусть даже ортодоксально, фанатично, но искренне — единицы. Их я не презираю, их можно только жалеть, но их можно понять. Но остальные?! Миллионы миллионов никогда не верили, они притворялись, что верили. И притворяясь сами, уничтожали тех, кто притворяться не мог или кто не ориентировался в том, как нужно притворяться...
Но все это я понял несколько позже. А вначале мне, как и всякому человеку, нужно было решить раз и навсегда, чем я буду руководствоваться в жизни — требованиями своей совести или мнением окружающих меня людей, то есть общественной моралью. Иначе говоря, мне нужно было решать, становиться ли мне взрослым или остаться жить в детстве.
Неизвестно еще, что бы я выбрал, если бы не мысль о смерти, которая меня настигла. Я догадывался, что, выбирая в руководство нравственное чувство, совесть, я обрекаю себя на мучительное одиночество, даже среди самых близких людей, а может быть, особенно среди них, потому что именно для них я буду постоянным немым укором, я догадывался, что мне предстоит жизнь изгоя, но, когда я столкнулся со всем этим на деле, оказалось, что я не готов к такой жизни.
Что может быть мучительнее для юноши, чем невозможность общения не только со сверстниками, но вообще с людьми? А я не мог быть с ними, потому что не слышал от них ни одного слова правды. Сверстники же мои сбивались в кучи и раздражали меня своей глупостью и похожестью на взрослых.
Естественно, что мне приходилось либо притворяться, либо молчать, либо говорить не то, что я думаю. И то, и другое, и третье было ужасно...
Но все-таки не это было самое тяжелое.
Самое невыносимое было то, что, чем выше я вырастал нравственно, чем больше я уважал себя (а именно потребность и стремление к самоуважению есть цель всех поступков человека), тем больше я презирал людей. И не вообще людей, а самых близких мне духовно людей! Чем лучше я становился, тем больше углублялась пропасть между нами. Страдал я, страдали они.
Вот их-то страдания, их непонимание, их страх и сломили меня. Я решил, что не может быть правильной, достойной и честной такая жизнь, которая приводит к страданиям близких людей. Я обвинил себя в фанатизме и призвал к мудрости, которая заключается в поисках компромиссов...
Человек так устроен, что может вполне оценить то, что имеет, только тогда, когда потеряет... Пока я жил не «мудро», пока судьей и авторитетом для меня было мое нравственное чувство, я был страшно одинок, потому что не мог белое называть черным, и наоборот, как это делали окружающие. Я не знал компромиссов и считался максималистом, то есть ограниченным, нелепым человеком. Я заставлял страдать других и страдал сам. Но зато совесть моя была чиста, и я УВАЖАЛ СЕБЯ. Меня не оставляло чувство правоты. Мне было знакомо чувство собственного достоинства.
Правда, все это не перевешивало на весах смерть и поэтому не представляло для меня какой-то особой ценности, как, впрочем, не представляет для человека ценности все, что естественно.
Что должен был я сделать теперь? Во-первых, снова научиться лгать себе и окружающим, то есть как бы не замечать того, что я чувствую, а чувствовать так, как принято в данной ситуации. Во-вторых, мне нужно было вспоминать, что и когда принято чувствовать... И то же самое в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых.
Одним словом, мне нужно было примирить свое нравственное чувство с общественной моралью.
Что такое общественная мораль? Если нравственность — это осмысленные и сформулированные требования совести, то общественная мораль — это кастрированная нравственность.
На моей памяти она всегда была лицемерна и ничтожна. И это естественно, потому, что формируют ее люди, формально и неформально стоящие у власти. Убивая в себе стыд, совесть, достоинство, сомнения, честь, потому что эти качества мешают им добиваться власти и пользоваться ею, они не могут не убивать их в других.
Знание добра и зла дается человеку от природы, он рождается с этим. Это не означает, что он непогрешим в поступках, это означает, что он всегда точно знает, поступает ли он хорошо или плохо. В этом смысле нравственность — постоянная величина, абсолют. Она определяет самое себя и от разума не зависит.
Мораль может приближаться к нравственности более или менее, но между ними всегда будет та же разница, что и между кастратом и полноценным человеком.
Можно ли, понимая это, рассчитывать на то, на что рассчитывал я, а именно — остаться чистым перед собой и стать приятным и удобным для окружающих?
Потратив много душевных сил и времени, я научился заглушать свои чувства, испытывая при этом радости пищеварения, тщеславия, радости половые и банные... Но при этом я потерял то, что имел и что придавало хоть какой-то смысл моей жизни — самоуважение и чувство собственного достоинства. Если раньше я жил тяжело, мучительно, то теперь я стал жить ничтожно. Последняя моя надежда была семья.
Я долго не решался жениться, боясь убить эту надежду, но в конце концов женился. Этот период моей жизни сыграл роль последней капли в том море бессмысленности и лжи, в котором я тонул с тех пор, как решил жить «мудро».
Если раньше я стремился уравновесить на весах смерть, то теперь я был убежден, что жить той жизнью, которой живу я, нельзя.
Снова оставшись один, я решил в последний раз попытаться понять, как должен жить человек, чтобы его не мучил вопрос: «Зачем я живу?» Если я — нормальный, сильный, здоровый, умный мужчина — не чувствую необходимости, обязательности той жизни, которой живут миллионы миллионов людей, то, может, этой необходимости и не существует? Может быть, нет, не было и не может быть той самой настоящей, серьезной жизни, о которой я столько думал?
И я стал искать человека, послушав или прочитав которого я смог бы с чистой совестью сказать себе: «Да, он знает, как уравновесить весы! Да, он жил, или живет настоящей серьезной жизнью, или, по крайней мере, знает, как жить ею». Я не искал советов, я искал ЧЕЛОВЕКА. Мне достаточно было бы знать, что такой человек существовал или существует.
Среди известных мне людей такового не оказалось. Я стал читать все доступные мне книги, посвященные философским направлениям, системам, религиям, учениям, я жадно искал такого человека в Библии, Коране, Ведах, в художественной литературе и живописи, в музыке и скульптуре, среди философов и политиков. И чем больше я читал, смотрел и слушал, тем яснее складывалась передо мной удивительная картина.
Я увидел, что, как только речь заходит о самом важном, самом мучительном, самом существенном, человек во все времена делает все, чтобы уйти от ответа. Он придумывает странные, причудливые по форме теории, цель которых — подменить вопросы, на которые он не может ответить честно и разумно, теми, на которые у него готовы ответы. Я увидел, что во все времена всегда и везде процветала ложь во спасение. Наивная и необъяснимая, если помнить о смерти.
Все веры, учения, религии, системы сводились и сводятся к одному: «Верь в то, что мы говорим, и за это тебе будет хорошо. Как хорошо? Перестанешь чувствовать вообще и таким, образом избавишься от страданий, или будешь испытывать самые приятные чувства, или будешь смотреть, как мучаются твои враги, или воплотишься в бога, или в животное... и много, много вещего в том же роде.
Основной рецепт, как всего этого счастья достичь, одинаков у всех: ВЕРЬ, А НЕ ДУМАЙ САМ». Потому что много знаний, много скорби. Потому что знание умножает скорбь. Потому что стремление к истине ведет к страданиям, а отказ от этого стремления ведет к нирване...
«Я чувствую, что существование смерти лишает смысла мою жизнь, по крайней мере в том виде, в котором она известна мне. Что мне делать?» — спрашиваю я.
«Перестань чувствовать!» — дружно отвечают все.
Я окончательно понял, что люди больше всего боятся правды, и вся их деятельность направлена на то, чтобы не видеть этой правды, не знать о ее существовании.
Причем все. кто претендует на ЗНАНИЕ, потому и претендуют, что НЕ ЗНАЮТ. Те же, кто не знает, те и не претендуют.
Первые, разумеется, почитаются людьми за мудрецов, вторые за оригиналов или юродивых. Ничтожный, тщеславный Конфуций — символ человеческой. мудрости, а вот Лао-Цзы — чудак. Никому и в голову не приходит, что если ты уважаешь Сократа, то должен презирать Платона. И так во всем и везде.
Из всего этого следовало, что большего, чем знать, что не знаешь, и задавать вопросы, на которые нет ответов, человеку не дано. И хотя я всегда ощущал в себе огромные нравственные, духовные силы, я не мог не признать, что я все же обыкновенный живой человек, подобный миллиардам других, и если ни один из них не сумел так прожитъ свою жизнь, чтобы уравновесить на чаше весов смерть, то не смогу этого и я. А жить так, как живу я, и все люди вокруг, мне скучно, стыдно и неинтересно.
Когда-то, лежа в больнице, я решил, что сумел уравновесить весы. Я ошибся тогда.
Теперь я знаю, что смерть нельзя уравновесить жизнью.
Поэтому я и не хочу жить, то есть быть слепцом, которого водят другие слепцы, считающие себя зрячими, и тем более не хочу быть в числе последних.
... Я попытался ясно объяснить самому себе, почему я не хочу жить. Теперь, чтобы быть до конца искренним, нужно ответить на естественный вопрос: если я не хочу жить, то почему я не убью себя?
Я не делаю этого только потому, что знаю: природа сама позаботится об этом в самое ближайшее время.
1989
"Жизнеописание грешников": "Откровение"
Владимир Владимирович Марченков