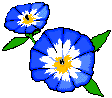10 лет без права помнить...
Это не будет мой текст. Это будет копи-паст.
Мне нечего сказать тем кто был внутри и стыдно признаваться в том, что я среди тех, кто их забыл ...
Напи[сал xenoss, 24 октября 2012 г. 05:28
"Норд-Ост". Прочитал. Представил. &*^%!@#*!&^
«Норд-Ост» в России больше, чем «Норд-Ост»
Десять лет прошло. Название великолепного спектакля навсегда стало символом трагедии.
Давайте все-таки вспомним, как это было.
Вот интервью, которое я взял у одного из создателей спектакля Георгия
Васильева для «Российской газеты». Он только что чудом вырвался из
террористического плена, мы говорим на следующий день. Потом это
интервью стало главой в моей книжке «Там, где бродит Глория Мунди». Оно
большое, но его стоит прочитать – в нем свидетельства, взятые по горячим
следам.
***
Трагедия, которая в течение трех суток октября 2002 года разворачивалась
в Театральном центре на Дубровке, уже описана многократно. Но каждый
раз мы видели события глазами тех, кто был вне здания. Сейчас мы получим
возможность увидеть их глазами человека, который все эти дни находился
среди заложников и пытался изменить их участь. Эксклюзивное интервью,
которое дал мне Георгий Васильев, один из авторов и продюсеров
патриотического мюзикла "Норд-Ост", — это взгляд человека, смотревшего в
глаза смерти, человека, который потерял многих своих друзей, был
свидетелем сцен невообразимых и запредельных, и без которого жертв было
бы гораздо больше.
Но прежде я хочу вернуться в тот счастливый миг, когда весь
отечественный музыкальный театр с появлением на свет «Норд-Оста»
совершил гигантский качественный скачок – в новое измерение. Когда
впервые на нашей сцене возник настоящий русский мюзикл – не калька с
заграничных образцов, а полностью укорененный в нашей истории. Я хочу
вернуться в этот миг, чтобы стало очевиднее: с трагедией «Норд-Оста» мы
потеряли не только десятки ни в чем не повинных людей. Мы подрубили
росток, который мог бы стать началом нового театрального мира в России.
Вот что я писал в газете «Известия» в октябре 2001 года, разгоряченный и воодушевленный увиденным на Дубровке чудом.
«Это тот случай, когда "радость безмерная". Афиши, вот уже полгода
интригующие Москву, не соврали ни в чем. Обещанный самолет со страшным
гулом двигателей садится в тайге у чукчей. Обещанные пилоты лихо бьют
чечетку на лыжах. Обещанный финал-сюрприз поражает воображение и
исторгает у зрителей светлые слезы. Роман Каверина "Два капитана" чудом
уложился в конгениальное ему музыкальное зрелище, не потеряв в
серьезности, но приобретя в энергетике. Проза чудом перешла в стихи,
умные и остроумные, стихи чудом легли на музыку, которую хочется слушать
снова. И я давно не видел более счастливого зала, чем на этих
предварительных просмотрах, которые по-заграничному назвали "превью".
Но это единственное заграничное, что бросается в глаза. Остальное
заграничное спрятано за кулисами, под сценой, в компрьютерных
хард-дисках, откуда управляется невиданное у нас зрелище. Это тот
технологический опыт, который на Западе вырабатывался весь ХХ век и
достиг совершенства — в организации дела и его раскрутке, в способе
совместить полет творчества с жестким расчетом всего, от движения
декораций до системы продажи театральных билетов. Это первый у нас
случай создания театра для одного спектакля — мощная машинерия запрятана
в фундаменте Театрального центра на Дубровке, она, как и сам спектакль,
будет действовать ежевечерне несколько лет, пока ходит публика. И
каждый вечер девиз "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" будет нас
возвращать от сумрака к свету, от апатии к действию, от упаднических
стонов к жизни. Потому что и сами авторы спектакля действовали по этой
формуле — шли со своей командой в толпе закоренелых скептиков, которые
были уверены: мюзикл не наш жанр, ничего не выйдет. И победили с сухим
счетом.
Взяв западные технологии, они создали российское патриотическое, хоть и
без пафоса, сочинение. Сами написали стихи и музыку, сами поставили
спектакль, сами его раскрутили. И в спектакле ожила наша история, наш
способ ее чувствовать, наш мелодический строй. А значит, русский мюзикл
родился — событие, без преувеличения, историческое.
Это также день рождения новых композиторов большой сценической формы —
Иващенко и Васильева. Ни в чем не подражая Уэбберу, они взяли за основу
традиции Дунаевского и Милютина, а также русской бардовской песни,
русского романса. Это день рождения театральных режиссеров, уверенно
владеющих и сценическим пространством и условностью жанра, до сих пор
нам не поддававшегося — Иващенко и Васильева. Так вообще-то не бывает,
но так случилось. Спектакль вышел сюжетно напряженным, в нем сильные и
яркие характеры, в нем музыкальные диалоги, за которыми следишь, как за
детективом. В нем есть несколько абсолютных шедевров — детские сцены,
коммунальная квартира, остроумно придуманный октет (!) четырех (!)
героев, квинтет машинисток "Широка страна моя родная". В нем смелая
сценография Зиновия Марголина и оригинальные танцы Елены Богданович. В
нем есть отличные актерские работы. Мне даже не хочется сейчас
выискивать недостатки — они случаются и на Бродвее, потому что мюзикл
сложная машина, сложнее, чем пресловутый ТУ-2, который садится на сцену
новой театральной Мекки на Дубровке. Да здравствует!».
Но судьба распорядилась иначе. То, что случилось в эти три октябрьских
дня – громадная трагедия нашей страны. То, что произошло потом – ее
несмываемый позор.
Наш разговор с Георгием Васильевым состоялся сразу после штурма театрального здания на Дубровке.
— Где вас застало вторжение террористов и какова была ваша первая реакция?
— Мы с Алексеем Иващенко работали в студии звукозаписи на третьем этаже,
когда прибежал наш менеджер сцены и сообщил, что в зале стреляют. И
первая реакция, естественно, -броситься туда, узнать, в чем дело, чем-то
помочь. Потому что как это так — в театре стреляют! Сбежал на первый
этаж и обнаружил там нашего пожарника, который кричал на непонятных
людей в черном: "Бросьте нас пугать, я же вижу, что это пиропатроны, я
по запаху слышу!". Но когда ударили первые пули, мы поняли, что дело
серьезное. И тогда я бросился в зал.
— То есть вы могли бы побежать и на улицу и спастись?
— А я и так спасся. По сути, вскочил в последний вагон. Еще чуть-чуть, и
мне уже не удалось бы заскочить в зал. Все решали секунды. К счастью, я
успел. Если бы не успел, меня расстреляли бы или вытеснили за пределы
помещения. Мне нужно было куда-то бежать — либо в зал, либо вон из
здания. Я побежал в зал.
— Ясно. Что было в зале?
— Там к этому времени все уже сидели смирно, потому что зрители были
окружены цепью людей в черном. В основном это были женщины с пистолетами
и гранатами в руках, к поясам были прикреплены взрывпакеты. Мне ничего
не оставалось, как сесть с краю и попытаться влиться в ситуацию. И войти
в контакт с террористами. Это оказалось довольно просто, потому что я
очень быстро им потребовался. Ведь театральное здание — сложная
конструкция и таит много опасностей для людей, незнакомых с театральной
техникой и не умеющих с ней обращаться. Естественно, проблемы начались
почти сразу же. К примеру, они вдруг обнаружили, что из тех больших
тяжелых штук, которыми они забаррикадировали двери сцены, повалил густой
дым, и они не знают, что это такое. А это были машины для сценического
дыма. Террористы были вынуждены обратиться в зал: кто, мол, тут знает,
что с этим делать? К счастью, я был, я знал, и вообще мне кажется, мое
присутствие помогло избежать многих опасностей.
— Вы оказались в роли капитана захваченного корабля.
— В принципе да, и это счастье, что я смог провести все трудные часы
вместе с людьми, которых я заманил, если так можно выразиться, в зал,
собрал на спектакль, и я должен был быть с этими людьми, с нашими
актерами, с нашим оркестром.
— Вы пытались вступить с захватчиками в переговоры?
— Я был единственным в зале, у кого была возможность с ними говорить.
Потому что они во мне постоянно нуждались. Я пытался все время расширять
сферу влияния. И уже следующий эпизод показал, что из них можно было
вытягивать какие-то уступки. Начали дымиться и гореть светофильтры.
Световой компьютер завис в режиме ожидания, а фильтры не рассчитаны на
такое долгое воздействие мощных ламп. Пошел запах горелого, люди
перепугались. Террористы сначала храбрились, но я им описал, как это
страшно, когда горит театр, и что они даже не успеют выдвинуть свои
политические требования и бессмысленно погибнут вместе со всеми за
несколько минут. Под таким прессингом удалось выбить из них рации, у
меня появилась связь с нашими людьми внутри театра, я даже смог на
некоторое время связаться с людьми, находившимися вне здания. В
частности, с нашим техническим директором Андреем Яловичем, который был
за пределами театра и очень много сделал для нашего освобождения. О
таких эпизодах можно рассказывать бесконечно — все трое суток состояли
из них. Я все время был в каком-то деле, в какой-то борьбе бесконечной, в
какой-то многоходовой шахматной игре, которая лично мне очень помогла —
я оказался как бы в привилегированном положении. Тяжелее было другим —
они были фактически прикованы к креслам, им запрещалось вставать,
звонить по сотовым, поворачивать голову, даже разговаривать, — им было,
конечно, гораздо труднее. И физически и психически.
— Ваши артисты находились в зале вместе со всеми?
— Да. К счастью, девочки наши успели выскочить из здания, им очень помог
Алексей Иващенко — он забаррикадировал дверь, ведущую в гримерки, и
большинство артистов, не занятых в начале второго акта, сумели
спуститься из окон на связанных костюмах.
— Террористы вас слушали? Вам удавалось на них влиять?
— Да. Не сразу, конечно. Я постоянно пробовал степень возможного
влияния: можно ли сделать еще шажок, еще шажок... Они меня дергали
буквально каждые полчаса, у них все время возникали проблемы. В какой-то
момент они захотели узнать, что там, за большой дверью на сцене. Это
был вход в так называемый «холодный карман». Они потребовали, чтобы я
залез по стремянке к одной из вентиляционных решеток и показал, что там
есть. А потом я обнаружил, что они играют в футбол нашим знаменитым
арбузом: вы помните, в спектакле с ним ходит узбек. Я у них этот арбуз
выхватил: "Вы что, это реквизит!". И положил арбуз в сторонке. Тут они
ощетинились: "Ты кто такой, чтоб нам приказывать?!". Так шаг за шагом
пробовал, где можно надавить, о чем-то попросить, как-то установить
контакт, чтобы выбить хоть какие-нибудь уступки людям, сидящим в зале.
— Удалось что-то сделать?
— Очень многое. Удалось, например, полностью снять пожарную опасность. Ведь был момент, когда в зале начался пожар.
— От осветительных приборов?
— Нет, там такая история была. Ведь самая большая проблема — туалеты.
Террористов было слишком мало, чтобы они могли контролировать все входы и
выходы из здания. Поэтому они старались держаться или внутри зала или
как можно ближе к нему. В зале у них были орудия влияния: была мощная
бомба посреди партера, которую они собирались взорвать в случае чего. В
сущности, эта бомба была их единственной серьезной защитой. Они мало
знали о здании: ни всех выходов из него, ни устройства подвалов,
потолков, колосников, галерей. Поэтому они старались всех удерживать
внутри зала. Человек 200-250 на балконе и человек 600 в партере. И если
участь людей на балконе была легче — там поблизости были туалеты, то из
партера они категорически никого не выпускали. Я очень быстро обнаружил,
что сами террористы используют под туалеты служебные помещения. Было
ясно, что для людей в партере эта проблема скоро станет неразрешимой. Я
предложил использовать для этих целей внутренние служебные лестницы, но
террористы опять-таки отказались, сослались на нехватку людей и
невозможность все это контролировать: выходы на лестницы были слишком
далеко от зала. И они стали настаивать, чтобы в качестве туалетов
использовать оркестровую яму. Для меня сама эта мысль была невыносимой, я
даже не знаю, как это объяснить...
— Это понятно.
— Я предлагал другой вариант: снять часть планшета сцены и сделать две
выгородки для мужского и женского туалетов. Там на сцене есть люки,
через которые нечистоты могли бы уходить вниз на трехметровую глубину.
Но они отказались и от этого, опять же ссылаясь на трудности
контролировать сцену. И пришлось всем, мужчинам и женщинам, использовать
оркестровую яму, дальнейшее вы можете себе представить. Через несколько
часов там творилось что-то несусветное. Это были невероятные моральные и
физические мучения. Потому что террористы и в яму пускали не всех и не
всегда. Разворачивались душераздирающие сцены, когда сидела девочка и
умоляющим взглядом смотрела на эту вонючую яму, потом косилась на
чеченку, которая была неумолима: "Сиди, терпи, я же сижу!". А девочка
умоляла: я двое суток не была в туалете, пустите меня... Все это было
пыткой. Яма очень быстро превратилась в страшную клоаку, где кровь
смешивалась с фекалиями. Не дай бог кому это пережить. И вот на второй
день там загорелось. Дело в том, что мы не могли полностью выключить
свет в яме — там было бы темно. И в качестве подсветки использовали
лампы на оркестровых пультах. Удлинитель одного из пультов закоротило.
Огонь перекинулся на провода, с проводов на листы нотной партитуры,
начался пожар. Слава богу, там был наш золотой человек начальник
осветительного цеха Саша Федякин, он притащил огнетушитель и обесточил
яму, огонь удалось потушить. Таких ситуаций было довольно много.
— Как вели себя люди?
— Одни переносили все стоически и, я бы сказал, героически. Другие паниковали. Многие все время плакали.
— Друг другу помогали?
— Были совершенно удивительные моменты самопожертвования. Рядом со мной
сидели двое наших музыкантов из оркестра — жена Саша и муж Женя. У него
украинский паспорт, у нее российский. Украинцев считали иностранцами и
обещали отпустить. И Саша все время выталкивала мужа, чтобы он отдал
свой паспорт, и все пыталась выкрикнуть: он иностранец! А он не
двигался: молчи, я без тебя никуда не пойду. Я вспоминаю эту драму,
которая разворачивалась рядышком со мной, с ужасом, потому что Женя в
конечном итоге погиб...
— Что происходило с людьми на балконе?
— Там было чуть полегче, потому что им все-таки позволяли пользоваться
туалетами. А с другой стороны, было труднее: их там было поменьше, и там
сидели наши дети, 11 человек. И с ними не было связи. Правда, с детьми
были наши преподаватели, которые их поддерживали, и огромное им
спасибо... В партере наши актеры держались молодцом, пытались ободрить
зрителей: "Смотрите, не потеряйте билеты. Когда мы отсюда выйдем, мы вам
обязательно доиграем спектакль!". Рассказывали в лицах соседям, как
дальше развивались события в спектакле. Поддерживали, как могли.
— Эта проблема с водой... Ведь в театральных буфетах были продукты и
напитки — террористы что, даже не пытались как-то обеспечить людей?
— Это было как раздача пряников. Время от времени выходил чеченец и
бросал несколько шоколадок или жвачек, или давал несколько
двухсотграммовых бутылочек с пепси — что это было для почти тысячного
зала! Можно считать, что трое суток люди практически не ели и не пили. И
это обезвоживание организма потом усилило действие газа, который во
время штурма был пущен в зал.
— Вам пытались помочь извне — до вас эта помощь доходила?
— Я до сих пор не могу понять, почему эта помощь шла так долго, пришла
так поздно, и почему нам доставляли совсем не то, что мы просили. В
первые же сутки я успел передать длинный список того, что нам нужно. А
нужны нам были в первую очередь средства гигиены — женские прокладки,
средства для дезинфекции оркестровой ямы, нужна была вода, простая
обычная вода. Я даже не просил еды, я просил самое неотложно
необходимое: лекарства от желудка, от сердца... К сожалению, ничего
этого мы не получали, а если и получали, то не то. И конечно, такое
впечатление, что люди, от которых зависели решения, в первую очередь
были озабочены совсем не судьбой заложников.
— Вам удавалось общаться с теми, кто приходил с воли? С профессором Рошалем?
— Нет, он работал на балконе, я был в партере, а туда никто не приходил.
Мы только выносили раненых, и мне удавалось вступить в контакт с теми,
кто принимал раненых, и с представителями Красного Креста, с Анной
Политковской. Но какой это контакт, если в спину тычут прикладами,
приговаривая "пошел-пошел, быстро-быстро, не оборачивайся!". Я только
успел шепнуть, что нам надо то-то и то-то, мне ответили, что про это
ничего не знают. А как не знать, если я по всем штабным телефонам
диктовал длинный список!
— Освободившись, вы спрашивали, почему так?
— Да я не хочу никаких объяснений! Думаю, это обычная наша бюрократия.
Но уверен, что мы на этом потеряли много жизней. Потому что если бы не
допустили такого сильного истощения и главное, обезвоживания организма,
многие остались бы жить.
— Нам говорили, что террористы просто не пропускали продукты и воду. По
всем телеканалам мы видели, как их вносили в здание театра.
— Но Красный Крест же они пропустили! И лекарства, и воду, и сок. Просто
прислали не то, что требовалось. Ведь в этой посылке могло быть то, что
мы просили и что нам было реально нужно! Знаете, что нам прислали из
обезболивающих средств? Анальгин в ампулах! Не в таблетках даже. Что мы
могли делать с ампулами?! Я вам сейчас скажу очень важную вещь. Ведь на
самом деле шла незримая борьба, перетягивание каната между заложниками,
их друзьями и родственниками с одной стороны — и, скажем так, сильными
мира сего, которые могут определять политику и влиять на информацию,
идущую через СМИ. Суть проста: когда решался вопрос о способе разрешения
конфликта — идти или не идти на штурм и если идти, то когда и с какими
средствами, — на чашах весов с той и другой стороны лежало очень многое.
И можно было пойти по разным вариантам. Одни ущемляли бы национальное
достоинство России, но при этом сохранили бы жизни людей, другие
предполагали длительные переговоры, третьи были более решительны и
рискованны. Понятно, что решение было сложным. Но на этих весах лежала
судьба людей, находившихся в захваченном театре. И вопрос стоял так:
каков вес этих жизней для политических и силовых решений? Если средства
массовой информации молчат, если молчит общественность — тогда и вес
этих жизней небольшой, и этим весом можно пренебречь. И принять решение,
политически более выгодное. Это понимали заложники. Они понимали также и
то, что никто, кроме их самих, их родственников и друзей, находившихся
на воле, им не поможет. Они вопили в свои сотовые телефоны, они взывали к
друзьям, к родным, к журналистам, к знакомым политикам, просили
обратить на них внимание, выйти на демонстрацию, просили, чтобы ни в
коем случае не было штурма. Чтобы пошли на уступки, но сохранили
человеческие жизни. Но все это натыкалось на железный заслон снаружи. Их
попытки обратить внимание на то, что здесь более 800 живых людей,
захлебывались. В СМИ все время занижалось количество заложников
(некоторые телеканалы вопреки очевидному даже настаивали, что зал
рассчитан на 300 мест!), и в конце концов были запущены гнусные
инсинуации насчет того, что все заложники впали в "стокгольмский
синдром", что они "полюбили своих мучителей" и поэтому выполняют все их
указания.
— Какое развитие событий вы считали бы правильным?
— Я понимаю, что любой сценарий, который я могу вам описать, будет
поднят насмех профессионалами. Они легко объяснят, почему этого нельзя
было сделать. Но при том количестве жертв, которое мы в результате
получили, при том колоссальном риске, который реально существовал (я
ведь находился внутри и мог оценить этот риск), можно было, наверное,
найти другой путь. Нас травили нервно-паралитическим газом. Из зрителей
погиб каждый четвертый. Из 76 сотрудников "Норд-Оста", находившихся в
зале, погибло 18 человек! Из 32 музыкантов оркестра погибли 8! И это
называют лучшим исходом, идеально проведенной операцией! А
представляете, если бы у одной из этих чеченок дрогнула рука и хотя бы
одна бомба сдетонировала! Я могу вам описать сценарий, он прост и
понятен. Террористы требовали уступок — надо было пойти на уступки. Мы
же много раз видели, как развиваются события в мире в аналогичных
ситуациях. Они требуют миллион долларов — им говорят "хорошо", мы
выполним требования, но и вы покажите, что готовы идти на уступки,
выпустите еще двадцать детей. Мы выводим такую-то дивизию — а вы
отпустите еще двадцать больных.
— Но вывод войск — не миллион, который можно привезти за час, он требует многих дней!
— А мы не просили нас освобождать немедленно и такой ценой, мы бы сидели и неделю и две, если бы это сохранило жизни.
— Но они же начинали расстреливать заложников!
— Нет. Это не так.
— Но по всем каналам передавали запись их разговора: в 6 утра начинаем расстрел.
— Накануне штурма никто никого не расстреливал. Расстреливать они начали
бы только в том случае, если бы не выполнялись их условия. А что мешало
начать их выполнять хотя бы частично? Я слышал эту официальную версию
насчет того, что только после первых выстрелов и создания реальной
угрозы для жизни заложников было принято решение о проведении операции.
Но я находился внутри: было обычное хмурое утро.
— Этот ваш рассказ круто меняет наши представления о том, как все
происходило. Но как вы могли бы сидеть еще неделю, если вам не давали
воды?
— Еще раз повторяю: посылка от Красного Креста прошла, значит, в
конечном счете пропустили бы и воду и все необходимое. Поймите, всё было
ужасно, но все были готовы идти на новые испытания, только бы уменьшить
количество смертей. Только об этом мы просили, звоня знакомым, друзьям и
журналистам, и спасибо огромное всем, кто выходил на пикеты и старался
нам помочь, привлечь к проблеме внимание общественности. К сожалению,
все обернулось по-другому.
— Как вы оцениваете сам штурм?
— Наверное, это было сделано суперпрофессионально. И наверное, я не имею
права судить решение командиров насчет того, какую дозу
нервно-паралитического газа дать в зал. Честь и хвала эти людям, которые
сумели определить дозу, усыпившую всех террористов. Хотя только я лично
знаю в зале несколько человек, на которых газ не подействовал вообще,
могу назвать их имена. Они остались в полном сознании и вышли из здания
своим ходом — вы понимаете, что это означает? Если бы среди террористов
нашелся хотя бы один такой человек (а вероятность была высокой), все бы
закончилось намного плачевнее.
— Пресса сообщала, что часть заложников удалось каким-то образом
предупредить о готовящемся штурме. Вы были в числе тех, кто знал?
— Эти предупреждения, я считаю, оказали нам медвежью услугу. Это значит
не чувствовать атмосферы, царящей в зале. Больше всего на свете люди
боялись штурма! Они понимали, что это огромный риск. Может быть, они не
понимали, что часть уцелеет — они думали, что любой штурм вызовет взрыв
огромных бомб, лежащих в креслах, и погибнут все. Так что для них штурм
означал смерть. Поэтому распространение слухов о том, что после третьей
ночи начнут расстреливать заложников и начнется штурм — нес только
панику. И распространять такие слухи — преступление, мы получили бы
массовый психоз, истерику, которая неизвестно чем бы кончилась. Для меня
готовящийся штурм был вполне очевиден. По тону СМИ и политиков, которые
выступали.
— Вам удавалось все это отслеживать?
— Да. У кого-то были радиоприемники, по рядам передавались слухи.
Во-вторых, я очень хорошо знаю это здание, от подвалов до крыши. И знаю,
какое огромное количество дыр оставалось не закрытыми — через них
вполне можно было напасть на террористов. Можно было подобраться через
подвалы, вентиляционные камеры и воздуховоды, террористы не могли
контролировать колосники и галереи. Существовали переходные мостики над
подвесными потолками, где можно было разместить хоть роту снайперов.
Террористы понятия не имели о том, что находится за каждой из
многочисленных дверей. Они были защищены только своими бомбами и угрозой
их взорвать. Но мне было абсолютно ясно, что в этой ситуации ни один
спецназ не устоит перед соблазном начать штурм. Из СМИ я знал, что после
третьей ночи начнут расстреливать, и поэтому спокойно приготовился к
штурму. И когда пошел газ, я даже сказал соседям по креслам: успокойтесь
и засыпайте. А потом и сам вырубился.
— Как вы перенесли действие газа?
— Плохо, потому что сидел прямо под кондиционером и получил большую
дозу. Но, слава богу, я человек крепкий здоровьем и хорошо переношу
стресс. И уже через десять часов меня откачали, я пришел в себя.
Сработало и то, что я лежал с краю, и меня быстро вытащили на воздух.
— Как сейчас себя чувствуют дети, и в какой мере происшедшее сказалось на их психике?
— К сожалению, я еще не видел ни одного ребенка — думаю, что они сидят
по домам, над ними хлопочут родные и близкие и радуются их спасению. Мне
трудно очень об этом говорить: дети есть среди погибших, в том числе из
труппы "Норд-Оста".
— Как вы думаете, почему для теракта выбран именно "Норд-Ост"?
— Я задавал этот вопрос террористам, и они ответили: вы — русский
мюзикл. На "Чикаго" ходят больше иностранцы, а они нам неинтересны, нам
интересны граждане России. Кроме того, наш спектакль шел каждый день в
одном и том же режиме, к нам легко было присмотреться, изучить все
необходимое.
— Рано об этом говорить, но вопрос волнует многих: "Норд-Ост" занял в сердцах людей совершенно особое место — он будет жить?
— Честно скажу: не знаю. У меня нет ни сил, ни средств, и я один не в
состоянии ничего сделать. Слишком большой ущерб. У нас нет даже денег,
чтобы заплатить сотрудникам. Сейчас в результате теракта мы вынуждены
уволить всю команду "Норд-Оста", триста человек. Нам нечем им платить.
Мы обращаемся в Фонд занятости, объясняем: на нас напали террористы, но
мы не виноваты, не мы проводим эту государственную политику в Чечне, мы
просто жертвы таких обстоятельств. Мы вынуждены уволить актеров, но
может быть, через два-три месяца нам удастся восстановить спектакль —
можно им пока выплачивать пособие по безработице хотя бы в размере
половины их оклада? Мы же честно делали все отчисления. Получаем ответ:
нет. А я говорю даже не о восстановлении мюзикла — а просто о
поддержании людей, пострадавших от теракта. И ответ — нет. Вот что
ужасно. Поэтому ждать более серьезной помощи от государства я боюсь.
Правда, слышны заявления о том, что здание отстроят. Но что это такое —
отстроить? Отстроят к летнему сезону, когда будет очередной спад
зрительской активности, а через год у нас заканчивается срок аренды. И
это будет помощь не нам, а шарикоподшипниковому заводу (для мюзикла
«Норд-Ост» был арендован Дворец культуры шарикоподшипникового завода –
В.К.). Кроме того, нужно же не просто здание отстроить, нужно еще
восстановить сложнейший спектакль, а главное — провести социальную
реабилитацию этого места. Ведь это теперь братская могила.
Конечно, если город действительно окажет поддержку, можно попробовать
все восстановить. Хотя это теперь проклятое место. И трудно будет выйти
на эту сцену, и сесть в эту оркестровую яму, и зрителям будет трудно
войти в этот зал. Наверное, и это можно было бы преодолеть — заменить
кресла, и баннер, который все эти дни был на телеэкранах, но, может
быть, правильнее сделать "Норд-Ост" мобильным, чтобы его увидела вся
страна. Чтобы его можно было показывать полгода в Москве, полгода в
Петербурге, полгода в Екатеринбурге, в ближнем зарубежье...
Но это все прожекты, а я вам привел только один пример: надо поддержать
выброшенных на улицу сотрудников спектакля, и даже здесь мы не можем
найти понимания...
«Итак, линия фронта прошла через мюзикл — самый жизнеутверждающий жанр
искусства. Через первый российский мюзикл, который люди полюбили, потому
что на этих спектаклях заново обретали веру в свою страну и величие ее
истории. "Норд-Ост", претендовавший всего только дать своим зрителям
хороший отдых и зарядить их оптимизмом, стал символом мужества и знаком
переломного времени. Вслед за нью-йорскими башнями-близнецами
музыкальный рассказ о героях-полярниках снова трагически обозначил
полюса главного противостояния в сегодняшнем мире: террористы против
человечества, человечество против террористов.
Поэтому "Норд-Ост" должен вернуться в Россию, поэтому Россия должна его
видеть. Теперь это дело чести не только для продюсеров, режиссеров и
артистов, но и для Москвы, и для страны».
***
Так я писал в послесловии к интервью. Я ошибся. Чтобы вернуть «Норд-Ост»
и тем заявить миру, что нас угрозами террора не запугать, нужно быть
патриотами не в кавычках, а по сути — ощущать свою страну как большую
духовно единую семью. Но на деле страна оказалась трусливой, она слишком
заражена всеобщим пофигизмом.
Создатели спектакля сделали все, чтобы он продолжал жить, – восстановили
его и даже некоторое время показывали на Дубровке. Но уже в Петербурге
не нашли для него сцены. Сначала был подписан договор с одним из
киноконцертных залов, а когда были затрачены деньги на рекламу, и
началась продажа билетов, залу вдруг срочно понадобился ремонт. Премьеру
отменили – и через несколько дней зал без всякого ремонта вновь как ни в
чем не бывало открылся. Несколько недель спектакль показывали в
провинции, потом его авторы поняли, что родина не хочет неприятных
напоминаний. Как страус, сунула голову в кусты: ничего не вижу, ничего
не слышу… И «Норд-Ост», первый по-настоящему патриотический, и при этом
талантливый русский мюзикл, умер.
Россия не выдержала столь сурового нравственного экзамена. Пофигизм победил.
http://blog.fontanka.ru/posts/115049/